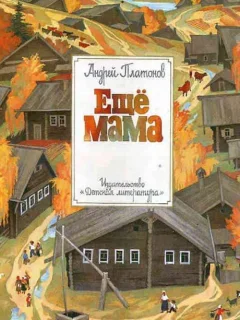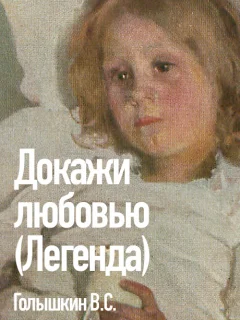«Отставке не подлежит» - Голышкин В.С.
«Отставке не подлежит» - рассказ Голышкина. В поселке Снегири сразу две новости: в доме на Ямской, пугавшем прохожих заколоченными окнами, поселились наконец жильцы. А в снегиревской школе появились два новичка: учитель физкультуры Тимофей Иванович и ученик восьмого класса Илья Чмутов.

«Отставке не подлежит» - читать онлайн
В поселке Снегири сразу две новости: в доме на Ямской, пугавшем прохожих заколоченными окнами, поселились наконец жильцы. А в снегиревской школе появились два новичка: учитель физкультуры Тимофей Иванович и ученик восьмого класса Илья Чмутов. Последнюю новость можно было разложить на две — новичков-то двое! — но для краткости изложения объединим их в одну.
Поселок Снегири — не город, не село. Вернее, одним краем к городу тянет, другим к селу. Городской край — это стекольный и молочный заводишки, сельский — колхозные фермы и угодья.
С пожарной каланчи, усеченным конусом уходящей в небо, Снегири как на ладони. И вся жизнь снегиревцев тоже как на ладони, потому что почти все они друг другу кем-нибудь да приходятся, какой-нибудь дальней или близкой родней, ну а среди родственников какие могут быть тайны?
Дом на Ямской, что много лет стоял с заколоченными ставнями, тоже не был для снегиревцев тайной. Наоборот, обо всем, что касается дома и его обитателей, в поселке знали лучше, чем экскурсоводы об экспонатах своего музея.
Стоило появиться в поселке новоселу, проезжему или прохожему человеку, его прежде всего вели к дому № 25 на Ямской, латаному-перелатаному, как семейный кожух, строению, срубленному еще в начале века, и повергали в изумление:
— Здесь бабка Степанида фрица на живца изловила!
…Снегири в дни войны между двух передовых оказались. Каши от него отошли, чтобы выровнять линию фронта, немцы не брали, потому что лобастый, на бугре, поселок, опоясанный Снежкой, был хорошей артиллерийской мишенью и насквозь просматривался с противоположного высокого берега реки. Но разведчики той и другой стороны в Снегири захаживали часто. И тогда, заметив движение, минометчики открывали стрельбу: в снегиревских домах редкий венец без дырки-раны. Наши били по немецким разведчикам, немецкие — по нашим, а случалось в суматохе, что те и другие лупили по своим.
Как-то перед наступлением нашему командованию понадобился «язык». Но добыть его оказалось не простым делом. Разведка боем не смогла пробить оборону… Охотники, посланные в тыл, вернулись ни с чем: немцы повсюду держали усиленные караулы. Тогда обратились к партизанам. И вот перед озадаченным полковником, командиром части, появилась сухонькая старушка при мешке, в котором трепыхалось что-то живое, с глазами быстрыми, как мыши, с языком острым, как шило. Не успела, шустрая, в блиндаж влезть — ординарцу командующего упрек: зачем печурку сырьем топит, немецкий глаз дымом мозолит, эвон в лесу сухостоя сколько, сухостой сгорит, следа-копоти не оставит.
Командующий поинтересовался:
— Ты зачем к нам, бабушка?
— От партизан я.
— Знаю, что от партизан, да зачем?
— За «языком» послана.
Командующий так и сел.
— Да ты кто?
— Повариха я, Степанида.
— Как же ты… за «языком»?
Бабуся рассердилась.
— Заладила сорока Якова… — начала она, но посмотрела на ординарца и осеклась, сочтя негожим корить старшего при младшем. Миролюбиво добавила: — Как уж я там управлюсь, моя забота, а ты вот что — вели снарядить мне в подмогу двух молодцов, в Снегири доставить, да там и оставить.
Командующий вызвал разведчиков…
Бабку Степаниду доставили в Снегири и по ее просьбе оставили там на ночь. Минул тревожный, в ожидании, день, а на следующую ночь партизанская повариха с тем же, но уже пустым мешком снова появилась в расположении части. Ее проводили к полковнику.
— Кличь молодцов. Там их, в Снегирях, «язык» дожидается. Вот тебе и адресок: Ямская, двадцать пять.
Разведчики ушли и вскоре приволокли из Снегирей немца. Пленного допросили и отправили куда надо, а по фронту пошла гулять легенда о том, как бабка Степанида фрица на живца изловила.
Но в этой легенде не было ни слова выдумки. Степанида фрица действительно поймала на живца. Этим живцом был петух, которого Степанида перед тем дня два морила голодом. Его-то она и прихватила с собой, когда отправилась брать «языка». Спряталась в погребе и через щель стала наблюдать за улицей. К вечеру появились немцы с автоматами. Их было четверо. Один шел впереди, два посредине, четвертый — замыкающим. Худые, длинноногие, чем-то похожие на лягушек в своих зеленых мундирчиках, они шли осторожно, лихорадочно сжимая автоматы и замирая при каждом шорохе. Бабка Степанида сплюнула: до того противно ей было смотреть на поганцев. Но надо было, и она смотрела. И когда трое ушли вперед, а четвертый поравнялся с ее домом, выпустила из мешка петуха. Ого, как он загорланил, негодуя на бабку за то, что она держала его впроголодь. Но бабке это и надо было. Четвертый немец услышал петуха и, не выдержав, дрогнул, как гончая, натасканная на дичь. Не предупредив своих, он переступил порог и сунулся в погреб. Растопырил руки, ловя петуха, оступился и полетел в люк, который бабка Степанида, как капкан, держала открытым. Вслед за немцем туда же полетел бочонок с огурцами. Немец, как футболист, принял его на голову и затих. Бабка закрыла люк и прильнула к щели. Послышался тревожный свист. Немцы искали пропавшего. Заглянули в один дом, кинулись в другой, третий и, потеряв осторожность, выдали себя противнику. Советские минометы открыли стрельбу. Переждав налет, немецкие разведчики кинулись вон из поселка, оставив «петушатника» на произвол судьбы. Вскоре за ним пожаловали наши разведчики и, оглушенного, не успевшего прийти в себя, уволокли в штаб.
Вот какая ходила по фронту быль-легенда. Такой она дошла и до наших дней.
Да, дом на Ямской не был тайной для Снегирей, как не были тайной и судьбы обитателей этого дома. Сперва одна-одинешенька жила в нем та самая Степанида. Бегала по чужим делам, хлопотала по общественным, с года на год откладывая свой отъезд к сыну, ходившему чуть не в генералах. Она так и не заметила за хлопотами-сборами, как к ней подкралась смерть. Хоронили партизанскую повариху всем поселком. Приезжал сын, весь в орденах, полковник, с женой и сыном…
После похорон дом на Ямской многие годы стоял заколоченным. И вот он снова, как вздремнувший дед, пускает в небо колечки дыма, исподлобья озирает родную улицу глазами окон, будто не узнает ее после долгого сна. В доме живет полковник с женой и сыном, тот самый, что приезжал на похороны. Только теперь это бывший полковник, точнее, полковник в отставке. Зовут его Тимофеем Ивановичем. Он уже был представлен в начале рассказа как учитель физкультуры. Сына Тимофея Ивановича зовут Илья. Он ученик восьмого класса снегиревской школы и тоже уже известен читателю. Пойдем дальше.
В снегиревской школе учились два недруга-товарища. Так не бывает? Сколько угодно. Терпеть друг друга не могут, а дружат — водой не разольешь. «Ты такой», «ты сякой», а чуть врозь — опять встречи ищут, опять споры, ссоры, пока урок, сбор или сон не разведут друзей-противников.
Валентин Фивинцев был председателем совета отряда, Анатолий Карпенко даже не пионер. В четвертом, когда в пионеры принимали, двойка помешала вступить, в пятом напроказничал, и классный руководитель посоветовал отряду повременить с приемом, пока не исправится. Анатолий исправлялся весь год, но так и не заслужил права на красный галстук. В шестом просто забыли, что он не пионер, а сам Анатолий, сочтя, что он уже не маленький, постеснялся напомнить об этом. Да и мать — Анатолий рос без отца — смотрела довольно равнодушно на то, что сын не носит галстука: пионер — не пионер, какая разница, все советские. Но сам Анатолий разницу чувствовал. Нет-нет да и поймает себя на мысли, что он в классе как пассажир в чужом поезде и до него дела нет: на сбор не зовут, в поход без него уходят, макулатуру одни собирают. Анатолия это страшно злило, и, мстя себе и другим за то, что не пионер, он ко всему, что происходило в отряде, относился насмешливо: подумаешь, каждый по деревцу посадил, половина наверняка не примется… И если деревца не принимались, Анатолий был на седьмом небе.
— Что я говорил, а? Что говорил?
Да что там отрядные дела! Ко многому, что происходило вне стен школы, Анатолий тоже относился скептически. Дали поселку газ: «Посмотрим, как гореть будет. Убежден, на всех все равно не хватит». Назначили в магазин нового заведующего: «И этот проворуется, убежден…» Уволили кого-нибудь с работы: «Не жди, не восстановят, убежден, у директора везде свои люди…»
Валентин догадывался, это у Анатолия от матери — она всегда на все ворчала, и до хрипоты спорил с врагом-товарищем, стараясь его переубедить. Но Анатолий оставался таким, каким был: толстощекий, с вечно прищуренным глазом, насмешливо подмигивающим собеседнику. Худенького, голенастого Валентина, привыкшего смотреть на все открыто и доброжелательно, эта манера — насмешливо прищуривать глаз — прямо-таки бесила…
Урок в восьмом классе «Б» начался как обычно. Вошел Павел Семенович, классный руководитель, он же преподаватель русского языка, и сказал:
— Здравствуйте, ребята!
Все встали, хором ответили на приветствие и сели. Лишь Анатолий продолжал стоять, вприщур глядя на учителя и розовея толстыми щеками.
Павел Семенович насторожился: ну-ка, ну-ка, что еще выкинет этот «трудный» Карпенко?
— Павел Семенович, что такое отставка? — спросил Толя.
У Павла Семеновича отлегло от сердца. Вопрос не показался ему ехидным. Зато Валентин насторожился. Он знал, чем был вызван этот вопрос. Вчера новенький сказал им, что его отец, полковник, вышел в запас и будет у них в школе учить ребят физкультуре. Класс тоже насторожился. Слух о полковнике-физкультурнике коснулся всех.
— Видишь ли, — сказал Павел Семенович, усадив Анатолия, — если смотреть в корень, то дать отставку значит отставить от дел. Ну а причины… Причины могут быть разные. Болезнь, раз, — Павел Семенович загнул палец, — старость, два, — Павел Семенович загнул второй палец, — несоответствие занимаемой должности…
На этот раз Павел Семенович не успел загнуть палец. Класс сочувственно вздохнул и, как по команде, уставился на новичка. Илье показалось, что его со всех сторон осветили прожекторами. Он вспыхнул и гордо вскинул голову, с неприязнью посмотрел на учителя. Павел Семенович все понял: задавая ему вопрос, ученик Карпенко имел в виду отца Ильи Чмутова. Как же он сразу не догадался об этом? Надо было спасать положение. И Павел Семенович, не меняя тона, продолжал:
— Есть и еще причина. Сокращение Вооруженных Сил… Наша мирная политика… Борьба за мир во всем мире…
Но его не слушали. Ребята оживленно шушукались, обмениваясь многозначительными взглядами. Какое там сокращение… В это они не верили. В болезнь тоже. В старость… Ну какой же он старик, Тимофей Иванович? Значит, остается «несоответствие»… Дойдя до этой мысли, они бросали сочувственные взгляды на новичка, которого эти взгляды кололи, как иголки.
Чувствуя, что теряет власть над классом, Павел Семенович раскрыл учебник и, потребовав внимания, велел достать тетради. Класс насторожился.
— Диктант, — произнес учитель.
Класс загудел, как потревоженный улей. Диктанта никто не ожидал.
Окончились уроки. Илья долго собирал учебники, ожидая, когда класс опустеет. Вышел последним. В коридоре спорили двое: басок отбивался, тенорок наседал. Илья узнал Карпенко и Фивинцева.
— Ты… ты… ты… — все выше и выше забирал Фивинцев.
— А что я? — бубнил Карпенко. — Спросил только.
— Потом не мог? При нем надо было? Гад ты, Карпенко.
Илья догадался — разговор о нем. Подошел. Ребята, увидев его, сразу притихли. Илья долго смотрел на них, будто решаясь на что-то. Потом сказал:
— Пошли. Я расскажу вам, почему папа ушел в отставку.
…Тимофей Чмутов встретил июнь 1941 года рядовым танкистом. На войне танки гибли чаще, чем водители, и Чмутов, сменив несколько броневых машин, въехал на последней из них, командирской, в Берлин. Здесь его ждали Золотая Звезда Героя и подполковничьи погоны. В этом случае говорится, что подполковнику Чмутову улыбнулось военное счастье. Но лучше бы его не было, этого «счастья».
Стоило подполковнику задуматься, и перед его мысленным взором, как в кошмарном сне, возникали страшные видения: колодец в Белоруссии, из которого его танкисты черпали не воду, нет, а трупы потопленных фашистами женщин и детей; украинская школа, а в ней класс и дети, в испуге прильнувшие к родным партам навсегда, потому что школу только что прострочил фашистский стервятник; подмосковная деревушка, обгоревшие, как головешки, дома и бледноногая девочка-подросток с черной косой до пояса, повешенная гитлеровцами на перекладине ворот…
После войны Тимофей Иванович был назначен командиром крупной танковой части. Сослуживцев поражала его неутомимая деятельность. Часть, которой командовал Чмутов, никому никогда не уступала первенства.
«И с чего ты такой энергичный?» — шутили товарищи.
«Со зла на войну», — не принимая шутки, сердито отвечал полковник Чмутов. Солдат с головы до ног, он знал: войну можно убить только силой. Даже если не применять ее, а только держать наготове.
Часть полковника Чмутова располагалась далеко от тех мест, где воевал майор Чмутов. Но мест этих полковник не забывал. Раны памяти, в отличие от ран физических, не залечиваются никогда.
И вот — аэропорт «Внуково». Впереди Москва, позади таежный поселок с девичьим именем Надя, где его ждут жена и сын. С чего же начнет он свой отпуск? Ну, это решено давно — побывать там, где воевал. Остановился, широкоплечий, стройный, высматривая такси.
День был жаркий, хоть и весенний. Распахнул шинель и снял фуражку. Лысая голова засверкала на солнце, как медный шар. Но Тимофей Иванович не был лысым. Просто всегда брил голову: солдатская гигиена. А солдатом он считал себя всегда, даже теперь, когда стал полковником. Всегда «смирно», никогда «вольно», посмеивались на его счет в полку. Но Чмутов не обижался, понимал это, как «всегда в строю».
Таксист, молодой, беззаботный, даже не ахнул, когда узнал о маршруте: Внуково, Апрелевка, Наро-Фоминск, Верея, Можайск, Истра, Дедовск… Только кивнул, белозубый, «поехали!» и прирос к баранке.
Ехали молча. Дорога то бугрилась, то расстилалась гладью. Деревья вдоль шоссе стояли густо, как солдаты в строю. Но вдруг их строй ломался, и полковнику казалось, что перед ним не бывалые солдаты, а новобранцы, не умеющие держать равнения и стоять по ранжиру. Но все равно те и другие, бывалые и новички, радовали его взгляд свежестью гимнастерок. Весна переводила лесные гарнизоны на летнюю форму одежды.
В деревнях звенели топоры бородатых плотников, в городах, постукивая мастерками, перекликались безусые каменщики: «Раствору!»
Подмосковье строилось. От военных пепелищ и следов не оставалось. Дорога нырнула вниз и вильнула в сторону, обойдя придорожную церквушку и росший рядом с ней дуб. Что-то знакомое показалось полковнику в этом соседстве. Церквушка и дубок… Ну как же!..
Его часть располагалась в сторонке, в ложбине — вон она, и немцы, подозревая это, нещадно лупили по двум ориентирам. Он еще спорил с комиссаром, кто первый падет сраженным — дубок или церквушка? Устояли оба. Отсюда он тогда и двинул в бой свои танки. По этой самой дороге, по которой едет. Значит… Сердце у полковника Чмутова учащенно забилось. Значит, сейчас он увидит ту переправу, тот мост и тот дом у моста…
Мост… Немцы, отступая, оставили от него одно название. Что могли, сожгли, что не удалось сжечь, взорвали, запрудив обломками илистую речушку. А дом — дом был цел. Стоял крепкий, как гриб-боровик, под оранжевой крышей. И хилая избушка рядом с ним, а дальше пепелище за пепелищем — черная фашистская работа.
Избушка — первое, на что обратил он тогда свой командирский глаз. Ему нужен был мост. Мост любой ценой. Иначе танки могли застрять на переправе. И сорвать наступление.
Нет, о задержке и думать было нечего. Значит, надо принести в жертву хатенку. Он переправился на тот берег и постучал. Из хатенки дремучий и белый как лунь вышел старик. Хилый на вид, он, узнав о том, что грозит его хатенке, проявил необыкновенную живучесть: растопырил, как крылья, дрожащие руки и запричитал, вытаращив на майора злые рыбьи глаза:
«Не дам… Сам поперек речки лягу… А хату не трожь… Не имеешь полного права…»
Право у майора Чмутова было. Это право дала ему война. Жаль деда, но что поделаешь: не пожертвуешь тем, что имеешь сегодня, не получишь того, что хочешь иметь завтра. А завтра он, майор Чмутов, и все его соотечественники хотели иметь победу. А ради победы можно пожертвовать даже жизнью. Так что с дороги, дед!
Он не сказал этого. Он только подумал, что так надо сказать, и не успел. К нему, переваливаясь на ходу, как утка, маленькая, сгорбленная, в ватнике и дырявом платке, подошла старушка и поклонилась в пояс. Майор оглянулся. Ого, он и не заметил, как стало людно. Старики, дети стоят поодаль, стреляют голодными глазами, жмутся, ежатся в драном, рваном, ждут чего-то.
«Тебе чего, мать?» — спросил майор Чмутов, злясь на задержку.
«Ларионовы мы, тутошние, — сказала старая и рукой, как клюкой, указала на оранжевую крышу. — Домовладение наше… так что… ежели…» — Голос у нее дрогнул.
Майор не так понял. Решил, что его зовут в гости, и наотрез отказался.
«Какие гости, — запела старая, — потчевать нечем. — И вдруг строго, как маленькому, заметила: — Да ты что? Ай запамятовал, зачем тут? Бери домовладение… рушь… мости переправу, гони его, проклятущего…»
Она махнула рукой, повернулась и пошла. Но майор не дал ей уйти. Догнал, обнял и, мешая соленые старушечьи слезы со своими, трижды поцеловал:
«Спасибо, мать… А дом… дом я тебе верну. Лучше этого поставлю. За Красной Армией не пропадет».
…Сейчас он увидит этот дом. Мост и дом возле него. Крыша оранжевая, как прежняя, а сам дом не в пример прежнему, хоть и уже в плечах, зато острей и выше под козырьком, на немецкий манер. Он и есть немецкий, этот дом. Какой-то немец-колонист вез его в обозе в Россию. Дом доехал, а он… Он тоже доехал, но в таком виде, когда нуждаются в жилищах иного рода…
Танкисты, захватив обоз, доложили о доме майору, и тот, воспользовавшись затишьем на фронте, приказал отправить его бабушке Ларионовой.
«Вернуть майоров долг» было поручено интенданту Митрофанову, толстому и сонному офицеру, оживлявшемуся только в двух случаях: перед едой или в присутствии начальства. В том, что его приказ будет выполнен, майор не сомневался: интендант Митрофанов был исполнительный человек, — но проверить не мог. Был ранен и навсегда потерял из виду часть, в которой сражался.
…Сейчас он увидит этот дом. Вот за тем подъемом.
«Волга» взвыла, преодолевая крутой рубеж, и замерла на гребне. Полковник вышел и в первую минуту подумал, что обознался. Мост был, лачуга, напоминавшая дедову, была, а дома под острой крышей, похожей на распустившиеся створки раковины, не было. Вот полковник и подумал, что обознался.
Ему навстречу поднималась закутанная в платок женщина. Голова от платка — как голубой шар, ни рта, ни носа, одни глаза. Спросил, как называется деревня внизу. Закутанная ответила. Деревня была та самая. Полковник сел на дорожный столбик и задумался. Вспомнилось сказанное там, внизу: «За Красной Армией не пропадет». Неужели пропало? Как он корил себя! Сто раз, бывая в Москве, мог завернуть сюда. Закутанная, заметив, как побледнел полковник, подошла, вопросительно посмотрела. Он улыбнулся, встал, прогоняя слабость, спросил, не здешняя ли?
«Здешняя». — ответила закутанная. Полковник, указав на лачугу, спросил: «Кто в том тереме живет?»
Глаза у закутанной загорелись любопытством.
«Раньше дедушка Авдеев жил. Сейчас бабушка Ларионова доживает. А что?»
Полковник не ответил. Молча кивнул и направился к машине. Закутанная дернула плечами — «странный какой-то» — и пошла своей дорогой.
В сельском Совете полковник узнал то же самое. Председатель, бывший партизан, курил, пряча цигарку в кулаке, по обычаю лесных мстителей, и рассказывал. Ларионова? Как же, проживает. Одинокая. Сын — тот под Прагой погиб, дочь — в здешних лесах. Партизанкой была. Здесь и похоронена. В братской могиле… Бабушка Ларионова у них герой. Детский сад на общественных началах… Матери — в поле, детвору — к ней. Раньше она в своем доме жила, а потом, когда ее дом по военной нужде конфисковали, по людям мыкалась. Ну а когда дедушка Авдеев умер, бабушка Ларионова вместо него поселилась.
Полковник угрюмо молчал: конфисковали… Вот как обернулось дело.
«А я слышал, — сказал он, — будто она сама… добровольно тот дом…»
Председатель вдруг оживился, будто ждал этого вопроса, и считал своим долгом немедленно опровергнуть легенду. У него просто в голове не укладывалось, что не где-то (где-то все возможно), а именно в его селе совершен легендарный подвиг. И кем? Простой русской крестьянкой. В ее несознательности он, председатель, бывший сельский активист-комсомолец сколько раз убеждался: ее на собрание зовут, а она в поле ковыряется, картошку, видишь, его комсомолки нечисто убрали; дочку в комсомол принимают, и она тут, послушать, видишь, пришла, чему ее дочку учить будут, не дурному ли? Комсомолу не доверяет…
«Нет, — сказал председатель, — не могла она. Свой дом? Сама? Нет, не той закалки человек. Да и кто бы у нее спрашивать стал? Война…»
Полковник с сожалением посмотрел на председателя. Русский, а в русских не верит. Пусть не во всех, а надо во всех верить, в каждом героя видеть.
Усмехнулся:
«А сами говорите, она у вас детский сад на общественных началах?»
Председатель понял — разубедить полковника не удалось, и бросился в новую атаку:
«А чем она тут жертвует? Временем? Так времени у нее все равно что у вечности… Ладно, за эту службу спасибо ей. А вот за то, что армию нашу на позор выставляет, не спасибо, нет».
«Как… выставляет?» — спросил полковник.
«А вот так, — сказал он. — Слухи всякие пускает. Будто армия наша долг ей вернет и новый дом поставит. Да если нашей армии долги возвращать…»
«Помолчите! — Голос у полковника был строг и сух. — Именно для того я сюда и прибыл…»
Председатель опешил.
Полковник встал и вышел. Сел в машину, уехал.
Все последующие действия полковника Чмутова были хоть и стремительны, но строго спланированы. Он помнил, что интендант Митрофанов москвич. Обратился в справочное бюро и узнал адрес. Дома Митрофанова не оказалось. Он был на даче. Полковник узнал адрес — Перловская, поехал. И не удивился, увидев дом под острой, похожей на распустившиеся створки раковины крышей. Он уже знал, что увидит его.
От дома к калитке, в которой стоял Чмутов, по красной, утрамбованной кирпичной крошкой дорожке шел тучный человек с лейкой. С лейкой в одной руке, с малой саперной лопатой в другой. Сейчас он увидит Чмутова. А это равносильно тому, как если бы он увидел привидение. Увидел! Узнал! Глаза расширились, подбородок отвис, и тучный осел, как подтаявший сугроб, выронив лейку и малую саперную лопату.
Чмутов ушел, ни разу не оглянувшись. Вернулся в Москву и вместо санатория, куда его гнали раны, поехал в Кировскую область. Там, в леспромхозе, купил сборный дом и, пока его доставляли в Москву, слетал в часть. Из части в столицу он вернулся с двумя десятками солдат из строительного батальона. Дом перевезли в деревню, и не прошло недели, как полковник, остановившийся в Москве, в гостинице на площади Коммуны, узнал: можно приезжать на новоселье. Он поехал возбужденный и радостный и очень удивился встрече: возле построенного солдатами дома сдержанно рыдал похоронный оркестр. Сердце у полковника оборвалось. Совсем нехорошо ему стало, когда он узнал, что бабушке Ларионовой даже не успели сообщить о новоселье. Дом до последнего дня держали в тайне. Увы, тайна так и не открылась бабушке Ларионовой. Она умерла в день новоселья.
Вернувшись домой, полковник объявил потрясенной семье, что выходит в отставку, и тут же выехал в округ.
Командующий, боевой товарищ, был строг и официален. Получив из рук полковника рапорт об отставке, он достал из стола другой документ, полученный ранее, и, пощелкав по нему пальцем, спросил:
«Бежите от ответственности?»
«Бегу? — удивился полковник Чмутов. — Не бегу, а прошу… по собственному желанию… И не от ответственности я бегу. За вверенную мне часть ответственности никогда не боялся».
«Я не об этом», — нахмурился командующий.
«О чем же еще?» — пожал плечами полковник Чмутов.
«Читай», — командующий протянул Чмутову бумагу.
Чмутов прочитал и побагровел. В бумаге, черным по белому, сообщалось о том, как он, полковник Чмутов, в корыстных целях использовал солдат саперного батальона. Дальше раскрывалась эта цель: строительство семейной дачи под Москвой. Чмутову захотелось тут же возмутиться, взорваться, но он сдержал себя и лишь голос выдал волнение.
«Да, — сказал он, имея в виду рапорт об отставке, — в частности и поэтому».
«Я так и думал, — сказал командующий. — Стараешься опередить события. Ну что ж, не будем выносить сор из избы, старый боевой товарищ. — Последние слова он произнес с издевкой, а потом прежним серьезным тоном добавил: — Рапорт пойдет по инстанции. Можете быть свободны».
Через месяц полковник Чмутов, теперь уже полковник в отставке, с семьей приехал в родное село.
— Папа наказал сам себя, — сказал Илья, закончив рассказ. — Наказал за то, что не мог сдержать слово. Я с папой согласен, а мама нет. Они все время ссорятся, и мама плачет.
— Теперь уж чего плакать, — запыхтел Анатолий. — Теперь вам назад ходу нет… — И ехидно добавил: — В полковники…
— Как это нет? — вспылил Валентин и забегал глазами, будто искал, за что ухватиться перед дракой. — Да я бы на месте Тимофея Ивановича… Я бы письмо… в Москву… маршалу…
— Папа не станет писать, — тихо сказал Илья. — До свидания. — Он отошел, остановился, обернулся и добавил: — Папа так и сказал маме — никаких писем, никуда.
Письмо в Москву ушло в ту же ночь. Начиналось оно так: «Маршалу Советского Союза от пионера Валентина Фивинцева…» В нем подробно на пяти листах ученической тетради излагалась история полковника Чмутова.
Прошел месяц, и вдруг учитель Чмутов прямо с уроков был вызван в область. Вызов не особенно удивил школу. Бывший полковник… Могли по военным делам вызвать, как это уже бывало не однажды. Смущало только, что прямо с уроков. И то, что машину за бывшим полковником прислал сам секретарь обкома.
Вернулся Чмутов взволнованный, но зачем вызывали, не сказал.
И еще прошел месяц. Наступила зима. Правда, еще не настоящая — маломорозная, совсем бесснежная, но зима, от которой уже надо было прятать нос и уши. Наконец выпал первый снег. И вот по нему, по первому снегу, оставляя за собой черный след, примчался в поселок мотоцикл с коляской. Остановился возле дома Чмутовых. Из коляски вылез офицер и вошел в дом. Побыл недолго и вышел. Сел в коляску, поехал и — кто видел, у того глаза на лоб — остановился возле дома Фивинцевых. Офицер вылез и вошел в дом. Побыл недолго и вышел обратно. Сел в коляску и укатил.
У жителей Снегирей не было тайн друг от друга. Потому что все они кем-нибудь да приходились друг другу: близкой или дальней родней. Не прошло и часа, как в поселке все — от мала до велика — знали, зачем приезжал мотоцикл, точнее, зачем он приезжал к Чмутовым: Тимофей Иванович получил приказ вернуться к месту прежней службы. А вот что забыл офицер, приезжавший на мотоцикле, в доме Фивинцевых, поселок не знал и терялся в догадках, сгорая от любопытства. А единственный человек, бывший в то время дома, Валентин Фивинцев, это любопытство удовлетворить не спешил. И на все вопросы, пожимая плечами, отвечал:
— А так, водички попить…
Валентину не верили: мог бы и у Чмутовых попить, и снова допытывались: зачем?
Валентин молчал, наслаждаясь мученьями любопытных земляков. Простим ему эту маленькую слабость. Придет время, и он расскажет другим то, что знает пока один. Офицер связи привез ему письмо. Письмо из Москвы. В письме, вызубренном наизусть, было: «Пионеру Валентину Фивинцеву. Главное управление доводит до Вашего сведения, что полковник Чмутов Тимофей Иванович отставке не подлежит» и «Маршал Советского Союза». Подпись. Число. Месяц. Год.
Это письмо Валентин Фивинцев будет хранить всю жизнь.